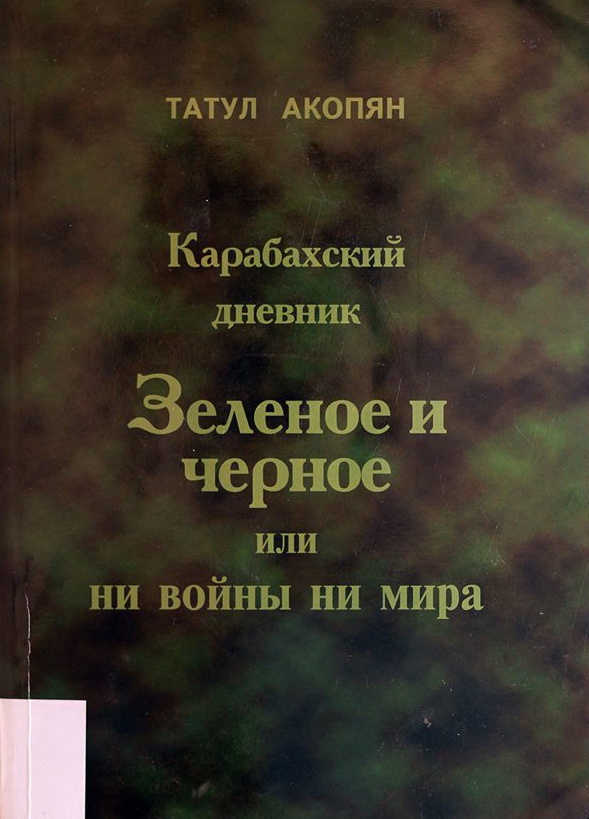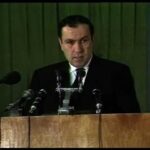Летом и осенью 1992-го карабахские силы вели бои не на жизнь, а на смерть. Уже более полугода военные действия происходили в основном в Мартакертском районе. Погибали лучшие ребята. В этом районе были убиты Леонид Азгалдян, Ашот Гулян, Самвел Шахмурадян и другие.
20-го октября Левон Тер-Петросян назначает на должность министра обороны Вазгена Манукяна – своего бывшего единомышленника, перешедшего в стан оппозиции. С политической и психологической точки зрения это был оправданный шаг. Во-первых, таким образом сводились к минимуму возможные разногласия между властью и оппозицией, во-вторых, на оппозицию также возлагались обязанности, а в случае возможных военных неудач – и ответственность.
«Политическое положение было крайне сложным. Спустя пару месяцев после блестящей победы в Шуши мы теряем Шаумян, большую часть Мартакерта, Арцвашен, на фронте царит паника. Оппозиция сплочена в сильный союз, идет политическая борьба, и в такой вот ситуации, с военной точки зрения безвыходной, Тер-Петросян предлагает мне должность министра обороны», – пишет Манукян.
4 мая 1991 г., в период премьерства Вазгена Манукяна, был сформирован Комитет обороны, на базе которого потом было создано министерство обороны. Манукян был уверен, что у Армении должна быть своя армия, а не «группы партизан-фидаинов, которые могут привести народ к погибели». Он отмечает значение, но не абсолютную роль партий и отдельных личностей в Карабахской войне.
«АРФД сыграла свою роль, но это была лишь частичка в целом. У ОНС были свои отряды – но это тоже частичка, а участие АОД было обусловлено тем, что оно составляло часть государственного аппарата. В войне побеждает государство, а не партии. И проигрывает тоже государство. Усилия, которые были приложены партиями, мало что значили по сравнению с усилиями государства. Многое зависело и от личностей. Но самый главный фактор – десятки тысяч армян, готовых отдать свои жизни во имя Карабаха. Сам Карабах героически воевал, воевал весь народ, для которого это была не абстрактная война: каждый защищал свою семью, свой дом. Если Арменией двигало чувство патриотизма, то карабахцы решали конкретную задачу выживания – они отстаивали свои дома и жизни».
Грант Маркарян убежден, что победу одержал армянский народ, а возглавила борьбу государственность. Национальная освободительная борьба стала и государственной борьбой. «Может, это звучит несколько грубо, но карабахская борьба была навязана государству. У Армении не было иного выхода, кроме как возглавить борьбу Карабаха. Здесь (в Карабахе) существовала реальная сила, эта реальная сила каждую минуту создавала определенные ситуации, а ситуация, хотелось того или нет, влияла на внешнюю и внутреннюю политику Армении. И для того, чтобы укротить или взять под контроль эту силу, государство обязано были принимать во всем этом участие. Я не утверждаю, что в то время было принято сознательное решение не поддерживать Карабах, а Дашнакцутюн принуждал к обратному. Внутри самой власти была какая-то неопределенность, ощущалась нехватка уверенности в себе. Но государство Армения убедилось в том, что необходимо взять на себя ответственность за карабахскую борьбу. Да, роль государства действительно была велика».
Иного мнения придерживается кинорежиссер Тигран Хзмалян. Он считает опасными и вредоносными утверждения о том, что войну выиграла армянская армия. Он убежден, что лавры победы принадлежат прежде всего арцахцам, добровольцам из Еревана, Гюмри, других населенных пунктов Армении, и десятку ребят, прибывших в Карабах из Диаспоры.
«Как-то даже была предпринята попытка объединить добровольческие отряды в армию. Эта армия терпела позорные поражения в течение всего 1992-го года. Перемены произошли в 1993-м: оборонные бои были поручены локальным отрядам, грубо говоря, в каждом селе был свой батальон, свой отряд, и благодаря этому против азербайджанского полка достаточно было вывести армянский батальон, против батальона – взвод. Ребята воевали, зная, что за ними, на расстоянии двухсот метров находится их село, дети, жены, матери. Против них были азербайджанцы – из Баку и других отдаленных мест, которые мысленно были где-то там, у себя дома, а стоящие напротив ребята воевали конкретно за свой дом. И им было очень важно видеть рядом с собой добровольцев, оставивших в Ереване свои семьи, детей, работу, учебу и приехавших в их село, чтобы разделить с ними хлеб и смерть».
Роберт Кочарян говорит об участии в борьбе добровольцев из Армении и Диаспоры: «На самом деле их было несколько человек. Конечно, есть светлые, известные имена, такие, как, например, Монте Мелконян. Роль добровольцев из Армении тоже чуточку мифологизирована. Воевать в Карабахе тогда было большой честью. Месяц повоевав в Карабахе, они возвращались в Ереван героями. В 1991 году число прибывших в Карабах извне бойцов составляло 8-10 процентов от общего числа. Сейчас их в Армии обороны НКР еще меньше».
Тигран Хзмалян, которому несколько раз довелось общаться с Монте Мелконяном, вспоминает: «Его присутствие придавало мистическую силу. Монте изменил тактику армии, он прошел подготовку и хорошо разбирался в партизанских действиях. Люди вроде Монте Мелконяна, Леонида Азгалдяна, Командоса олицетворяли собой нравственную силу. Мы победили благодаря нравственному превосходству. Это звучит идеалистически, но у нас не было ни оружия, ни боеприпасов, ни живой силы, одно было оружие – наш дух».
Ваан Ширханян верит, как он сам говорит, в «миф об армянском народе». «Конечно, Монте Мелконян сделал колоссальную работу, но вряд ли ему это удалось бы без ребят, которые добровольно шли на смерть, которых их же семьи отправляли побеждать, и, если необходимо, погибать. Семьи провожали этих людей на поле брани, понимая, что сын, отец, муж может не вернуться. Лучшие из лучших шли впереди, и они погибли. По крайней мере, их большая часть. Преобладающая часть».
Виген Четерян был одним из тех журналистов, кто освещал войну в европейской прессе. Он рассматривает победу армян несколько в другом аспекте и считает ее следствием царящей в Баку неразберихи. «Шла борьба за власть между старой коммунистической номенклатурой и Народным фронтом. Как только азербайджанской верхушке удавалось сплотиться вокруг единого лидера, Азербайджан добивался важных побед, или, как минимум, ему удавалось оттеснить силы Карабаха и Армении. Подобное происходило дважды: летом 1992-го года, когда к власти пришел Эльчибей, азербайджанские войска перешли в наступление и заняли четверть территории Карабаха, и в декабре 1993-го года, когда Алиев взял власть в свои руки. Быстро меняющаяся линия фронта свидетельствовала о военной слабости обеих сторон».
Экс-премьер Армении Грант Багратян приводит другое объяснение: «Мы выиграли войну, потому что приватизировали землю, и каждый воевал за свою землю. Демократии в Армении было больше, чем в Азербайджане, и мы победили, потому что были меньше коррумпированы. Эта была, по сути, национально-освободительная война. Мы победили, потому что перед нашими солдатами была поставлена более благородная цель, и это придавало им храбрости».
Победившие в трех южно-кавказских конфликтах арцахцы, абхазцы и осетины обуславливают свои успехи тем, что воевали во имя родины и правого дела, тогда как грузинские и азербайджанские вооруженные формирования не были обременены риском потерять родной очаг. Считая это утверждение бесспорным, Четерян задается вопросом – чем же, согласно той же логике, объяснить паническое бегство из Кельбаджара, Зангелана, Джебраила, Агдама и Физули азербайджанцев, считающих эти места своим домом? В Гальском районе Абхазии подавляющее большинство составляли грузины, но они практически без боя покинули свои дома.